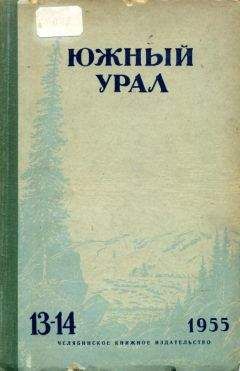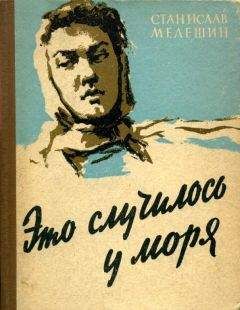Рано утром меня разбудило происходившее вне палатки движение и сдержанный говор. В палатке было так тепло и не хотелось выходить, но, ведь сегодня мы поднимаемся на Иремель. Одевшись на скорую руку, я вышел «на улицу». Утро стояло великолепное, какого только, можно было пожелать, и все кругом было залито ликующим солнечным светом. Двое ямщиков и «человек» молча указали на дорогу в Байсакалову, по которой в нашу сторону быстро подвигалась целая процессия: в коробке́, заложенном парой, ехал сам Мурача, а за ним двое верховых башкир и в арьергарде Меньшин верхом на своем рыжем мерине.
— Селям, маликам!..
— Маликам селям…
Изморенные башкирские лошади едва подкатили коробок. Приземистый и толстый Мурача едва из него вылез и молча с приличной важностью поздоровался со всеми за руку. Это был совсем седой старик, плотный и здоровый, с рябым широким лицом, приплюснутым носом и маленькими серыми глазками, глядевшими куда-то в сторону, как у пойманного зверька. По синему суконному кафтану, надетому поверх бешмета, можно было заключить, что старик один из богачей в Байсакаловой. Полный титул его такой: Мурача Туля́ков, сын Тамбаев.
— Поведешь, Мурача, на Иремель?
— Зачем водить, сама пойдет мало-мало.
Другой башкир, приехавший верхом, собственно, и являлся проводником. По наружности он сильно смахивал на ветхозаветного дьячка: худенький, с острым лицом и бородкой клинышком; не доставало только косицы, а то и костюм дьячковский: длинный бешмет, ни дать ни взять подрясник. Мне понравились светлокарие, живые и насмешливые глаза этого второго номера, особенно когда он улыбался, показывая два ряда ослепительно белых зубов, которым позавидовала бы даже собака. Держался он в стороне, уступая первое место и первое слово Мураче. Звали его Гарий Мухамед. Третий башкир был просто «малайка», то есть мальчик, лет двенадцати, еще не утративший застенчивости детского возраста и в критических случаях прятавшийся за широкой спиной Мурачи. Скуластое детское личико глядело на нас такими любопытными глазками! В костюме малайки самым замечательным была бобровая шапка с бархатным верхом, расшитым позументами, — такие шапки носят женщины, и, очевидно, мать нарядила его в свою. Естественным продолжением малайки являлась двухлетняя кобылка «сивожелезой» масти, на которой он гарцевал без седла с шиком настоящего джигита.
— Кумыс барма?
— Бар…
— Эррар.[9]
Все старались сказать что-нибудь по-башкирски, пока не истощился весь запас знакомых слов. Наш «человек» говорил по-башкирски в совершенстве, как многие другие, жившие в «орде», т. е. в степи.
— Сколько верст до Иремели? — спрашивал я Мурачу.
— Двадцать пять будет мало-мало.
Напившись чаю, мы тронулись в путь. Нужно было торопиться, чтобы не изменилась погода. Мы с Михаилом Алексеевичем в коробке, а Мурача правил своими одрами. Двое башкир и Меньшин составляли конвой. У Гария за спиной болталась тульская винтовка, а Меньшин в форме ранца вез походную фотографию.
Нам предстояла нелегкая задача перевалить через Аваляк, не далеко от вершины; а высота этого кряжа достигает почтенной высоты в 1280 метров над уровнем моря. Вперед делалось страшно за несчастных лошаденок Мурачи.
Кстати, несколько слов о сравнительной высоте разных гор. Самые высокие вершины встречаются на Северном Урале, как Денежкин-Камень, а Средний Урал не имеет ни одной высокой горы. После Северного по высоте следующее место занимает Южный Урал. Есть две высоких горы около Златоуста — Юрма (в переводе: «Не ходи») 1029 метров и Таганай («Подставка луны») 1200 метров, а затем Уй-Таш имеет 859 метров, Аваляк — 1280 метров и Иремель — 1598 метров. Собственно Иремелей две горы — Малый Иремель и Большой.
Перевал через Аваляк являлся героическим подвигом как для лошадей, так и для седоков. Переехав луговину и маленькую горную реченку, мы начали взбираться на крутизну.
Горная дорога находилась в самом первобытном состоянии: ямы, колдобины, пенья, коренья, камни. Наша пара делала остановки через пять минут. Можно было только удивляться выносливости этих башкирских животов, карабкавшихся на крутизну. Даже Меньшин и тот, покачав головой, заметил:
— Вот так дорожка: пьяный чорт ездил… А башкиры бревна возят по ней. Трудовая же эта башкирская лесинка… Из-под самой Иремели волокет он бревно аршин девяти да в Балбуке за него и получит пятиалтынный. Не рад и деньгам будешь.
Казавшийся издали густой лес вблизи оказался сильно разреженным, а местами уже светились громадные «прогалызины», где все вырублено было начисто. Если лес еще сохранялся наверху, то благодаря только тому, что деревья здесь не достигали полного роста — начинали попадаться целые островки из таких искривленных елей и лиственниц, точно какая инвалидная команда. Барометр быстро падал, но и без него чувствовалась значительная высота. Все чаще и чаще стали попадаться деревья со сломанными вершинами, а в одном месте целый лес стоял без верхушек, точно их скосила какая-то могучая невидимая рука. Сидеть в коробке было хуже, чем идти пешком, но мы берегли ноги для предстоящего подъема на самый «кабан», как называются здесь вершины гор.
Мурача сосредоточенно молчал и похлестывал хитрившую пристяжную. Начавшаяся лесная глушь давала себя чувствовать. Из пяти лошадей нашего поезда две были хватаны медведем, а третья — волками. У мерина, на котором ехал Меньшин, на задней ноге в толстом месте не доставало большого куска: поусердствовавшая медвежья лапа выхватила его целиком; а мерин спасся.
— Жеребеночка одного у меня волки достигли этак-то в лесу, — рассказывал Меньшин, стараясь ехать с коробком в ногу. — Ну, мать-то, кобыла, и убежала, а мерин его заступил… Так и отбил от стаи. Морду ему всю изодрали, а взять не могли.
Меньшин вообще старался поддержать разговор и заезжал то справа, то слева. Когда исчерпались все темы, он проговорил:
— Вот што, Михал Алексеич, я тебе скажу: каки у тебя духи приятные… Так и наносит. Поедем домой, так ты дай мне этих духов помараться. Скажу хозяйке, что на Иремеле ключ такой с духом бежит.
— Апайка[10] твой лизать будет… — глубокомысленно заметил Мурача.
— Мурача, расскажи-ка, как оренбургский губернатор поднимался на Иремель?
— Чего рассказывать: губирнатор на гора лезал, а груза́ его пугал. Проводник кунчал, губирнатором шапка палил… один халуй сапог рвал, остальной халуй глушил…
По объяснению башкир неудача, настигшая оренбургского губернатора, произошла оттого, что он поднялся не с той стороны: гора не пускает на себя именно с этой стороны. Загадкой такого объяснения служит то, что Иремель, как и Ауш-Куль, гора святая и на ней где-то похоронены башкирские святые.
После двухчасового подъема с высоты перевала мы, наконец, увидели Большой Иремель. Издали гора имела очень внушительный вид. Она сверху донизу состояла из одной сплошной россыпи — целая верста насыпанных в беспорядке камней. Такую голую каменную гору я видел на Урале еще в первый раз. Ее портила только плоская и длинная вершина, не увенчанная, как обыкновенно, крутыми скалами. Малый Иремель мне показался красивее, благодаря зеленоватому тону камней. Эта гора значительно меньше, и местами голые россыпи так красиво убраны бордюрами из елей и пихт, забравшихся на такую кручу.
Нам оставалась переехать широкую котловину, которая отделяла Аваляк от Иремелей, и потом уже начать подъем. Я искал глазами девственных лесов, но их не оказалось. Свежие пни, валявшийся везде вершинник и прогалызины свидетельствовали о горячей башкирской работе.
В двух местах около дороги стояли даже деревянные козла, на каких распиливают бревна: доски было удобнее везти, чем бревно. Собственно, хорошего строевого леса здесь больше не оставалось, а рубили, что попало. Недавняя лесная пустыня быстро исчезала под топором, и, вероятно, недалеко то печальное время когда Бахты, Аваляк, Иремель и все окрестные горы будут раздеты до последнего сучка, как Уй-Таш. На меня лично эта картина безжалостного истребления вековых лесов всегда действует самым удручающим образом: один человек оставляет за собой пустыню…
— А чем им, башкирам, питаться-то? — защищал Меньшин. — Только я ремесла всего, што лес рубить…
— А что они будут делать, когда лес вырубят?
— Будут ждать, покеда новый подрастет.
IV
Спустившись к подножью Малого Иремеля, мы сделали привал, потому что ехать дальше на колесах было невозможно.
— Телега кунчал… — коротко объяснил Мурача, останавливая своих россинантов на одной из прогалызин.
Пока распрягали лошадей и седлали их же, Михаил Алексеевич успел снять фотографии с Малого Иремеля и с Большого. Особенно оригинальны были деревья, искривленные и покрытые зеленоватым мохом березы, точно золотушные ели и пихты, и много высохших, совсем голых деревьев, стоявших среди остальной зелени деревянными скелетами. Густая трава была хороша, но под ней нога чувствовала уже мягкую моховую подстилку, и под каблуком чмокала болотная, не просыхавшая никогда вода.